Глава 13. Наука и метанаука
13.1. Экспериментальная физика
На рубеже XVI и XVII столетий, когда закладывались основы новой математики, были заложены также основы экспериментальной физики. Ведущая роль принадлежит здесь Галилею (1564–1642), который не только сделал многочисленные открытия, составившие эпоху, но в своих книгах, письмах и беседах учил современников новому методу получения знаний. Воздействие Галилея на умы было огромно. Другим человеком, сыгравшим важную роль в становлении экспериментальной науки, был Френсис Бэкон (1561–1626), выступивший с философским анализом научного знания и метода индукции.
В отличие от древних греков европейские ученые отнюдь не относились с презрением к эмпирическому знанию и практической деятельности. В то же время они полностью овладели теоретическим наследием греков и уже вступили на путь собственных открытий. Сочетание этих аспектов и породило новый метод. Бэкон пишет:
Те, кто занимались науками, были или эмпириками, или догматиками. Первые, подобно муравью, только собирают и пользуются собранным. Вторые, подобно пауку, из самих себя создают ткань. Пчела же избирает средний способ, она извлекает материал из цветов сада и поля, но располагает и изменяет его собственным умением. Не отличается от этого и подлинное дело философии. Ибо она не основывается исключительно или преимущественно на силах ума и не откладывает в сознание нетронутым материал, извлекаемый из естественной истории и из механических опытов, но изменяет его и перерабатывает в разуме. Итак, следует возложить добрую надежду на более тесный и нерушимый (чего до сих пор не было) союз этих способностей опыта и рассудка1.
13.2. Научный метод
Понятие эксперимента предполагает наличие теории. Без теории эксперимента нет, есть только наблюдение. С кибернетической (системной) точки зрения эксперимент — это управляемое наблюдение; управляющей системой является научный метод, который, опираясь на теорию, диктует постановку эксперимента. Таким образом, переход от простого наблюдения к эксперименту есть метасистемный переход в сфере опыта, и это первый аспект возникновения научного метода; второй его аспект — осознание научного метода как чего-то, стоящего над теорией, иначе говоря, овладение общим принципом описания действительности с помощью формализованного языка, о чем мы говорили в предыдущей главе. В целом возникновение научного метода — это единый метасистемный переход, который создает новый уровень управления, включающий управление наблюдением (постановка эксперимента) и управление языком (разработка теории). Новая метасистема — это и есть наука в современном смысле слова. В рамках этой метасистемы между экспериментом и теорией устанавливаются тесные связи — прямые и обратные. Бэкон описывает их так:
Наш путь и наш метод... состоят в следующем: мы извлекаем не практику из практики и опыт из опыта (как эмпирики), но причины и аксиомы из практики и опытов, а из причин и аксиом — снова практику и опыт, как истинные Истолкователи Природы2.
Теперь мы можем дать окончательный ответ на вопрос, что же произошло в Европе в начале XVII в.: произошел крупнейший метасистемный переход, захвативший как языковую, так и неязыковую деятельность. В сфере неязыковой деятельности он предстал в виде экспериментального метода. В сфере языковой деятельности он дал начало новой математике, которая развивается путем метасистемных переходов (эффект лестницы) по линии все углубляющегося самоосознания в качестве формализованного языка, служащего для создания моделей действительности. Этот процесс мы описали в предыдущей главе, не выходя за пределы математики. Теперь мы можем завершить его описание указанием на ту систему, в рамках которой этот процесс становится возможным. Эта система — наука в целом с научным методом в качестве управляющего устройства, т. е. (расшифровывая эту краткую форму выражения) совокупность всех человеческих существ, занимающихся наукой и овладевших научным методом, вместе со всеми используемыми ими предметами. В главе 5, говоря об эффекте лестницы, мы обращали внимание, что он проявляется в том случае, когда существует метасистема Y, которая продолжает оставаться метасистемой по отношению к системам ряда X, X', X'', ..., где каждая следующая система образуется путем метасистемного перехода от предыдущей, и которая, оставаясь метасистемой, как раз и обеспечивает возможность метасистемных переходов меньшего масштаба от Х к X', от X' к X'' и т. д. Такая система Y обладает внутренним потенциалом развития; мы назвали ее ультраметасистемой. При развитии материального производства ультраметасистемой Y является совокупность человеческих существ, обладающих способностью превращать орудие труда в предмет труда. При развитии точных наук ультраметасистемой Y является совокупность людей, овладевших научным методом, т. е. обладающих способностью создавать модели действительности с помощью формализованного языка.
Мы видели, что у Декарта научный метод, взятый в его языковом аспекте, послужил рычагом для реформы математики. Но Декарт не только реформировал математику; развивая тот же аспект того же научного метода, он создал множество теоретических моделей, или гипотез, для объяснения физических, космических и биологических явлений. Если Галилея можно назвать основоположником экспериментальной физики, а Бэкона — ее идеологом, то Декарт — и основоположник, и идеолог теоретической физики. Правда, модели Декарта были чисто механическими (других моделей тогда и не могло быть) и несовершенными, большая часть вскоре устарела. Однако это не так важно, как важно то, что Декарт утвердил принцип построения теоретических моделей. В XIX в., когда были накоплены первоначальные познания в физике и усовершенствован математический аппарат, этот принцип показал всю свою плодотворность.
Мы не сможем здесь даже в беглом обзоре коснуться эволюции идей физики и ее достижений, так же как идей и достижений других естественных наук. Мы остановимся на двух аспектах научного метода, имеющих универсальное значение, а именно на роли общих принципов в науке и на критериях выбора научных теорий, а затем рассмотрим некоторые следствия достижений новейшей физики ввиду их важного значения для всей системы науки и мировоззрения вообще. В заключение этой главы мы обсудим некоторые перспективы развития научного метода.
13.3. Роль общих принципов
Бэкон выдвинул программу постепенного введения теоретических положений («причин и аксиом») все большей и большей общности, начиная с эмпирических единичных данных. Этот процесс он назвал индукцией (т. е. введением) в отличие от дедукции (выведения) теоретических положений меньшей общности из положений большей общности (принципов). Бэкон был большим противником общих принципов, он говорил, что разум нуждается не в крыльях, которые поднимали бы его ввысь, а в свинце, который притягивал бы его к земле. В период «первоначального накопления» опытных фактов и простейших эмпирических закономерностей, а также в качестве противовеса средневековой схоластике эта концепция еще имела некоторое оправдание, но в дальнейшем оказалось, что крылья разуму все-таки нужнее свинца. Во всяком случае, так обстоит дело в теоретической физике. В подтверждение предоставим слово такому несомненному авторитету в этой области, как Альберт Эйнштейн. В статье «Принципы теоретической физики»3 он пишет:
Для применения своего метода теоретик в качестве фундамента нуждается в некоторых общих предположениях, так называемых принципах, исходя из которых он может вывести следствия. Его деятельность, таким образом, разбивается на два этапа. Во-первых, ему необходимо отыскать принципы, во-вторых, развивать вытекающие из этих принципов следствия. Для выполнения второй задачи он основательно вооружен еще со школы. Следовательно, если для некоторой области, т. е. совокупности взаимозависимостей, первая задача решена, то следствия не заставят себя ждать. Совершенно иного рода первая из названных задач, т. е. установление принципов, могущих служить основой для дедукции. Здесь не существует метода, который можно было бы выучить и систематически применять для достижения цели. Исследователь должен, скорее, выведать у природы четко формулируемые общие принципы, отражающие определенные общие черты множества экспериментально установленных фактов.
В другой статье («Физика и реальность») Эйнштейн высказывается весьма категорически:
Физика представляет собой развивающуюся логическую систему мышления, основы которой можно получить не выделением их какими-либо индуктивными методами из пережитых опытов, а лишь свободным вымыслом.
Слова о «свободном вымысле» означают, конечно, не то, что общие принципы совершенно не зависят от опыта, а то, что они не определяются опытом однозначно. Пример, который Эйнштейн часто приводит, таков. Небесная механика Ньютона и общая теория относительности Эйнштейна построены на одних и тех же опытных фактах. Однако они исходят из совершенно различных, в некотором смысле даже диаметрально противоположных общих принципов, что проявляется и в различном математическом аппарате.
Пока «этажность» здания теоретической физики была невелика, и следствия из общих принципов выводились легко и однозначно, люди не осознавали, что при установлении принципов они имеют определенную свободу. В методе проб и ошибок расстояние между пробой и ошибкой (или успехом) было так невелико, что они не замечали, что пользуются методом проб и ошибок, а полагали, что непосредственно выводят (хотя это и называлось не дедукцией, а индукцией) принципы из опыта. Эйнштейн пишет:
Ньютон, творец первой обширной плодотворной системы теоретической физики, еще думал, что основные понятия и принципы его теории вытекают из опыта. Очевидно, именно в таком смысле нужно понимать его изречение «hypotheses non fingo» (гипотез не сочиняю).
Но со временем теоретическая физика превратилась в многоэтажную конструкцию, и вывод следствий из общих принципов стал делом сложным и не всегда однозначным, ибо часто оказывалось необходимым делать в процессе дедукции дополнительные предположения, чаще всего «непринципиальные» упрощения, без которых невозможно было бы довести расчет до числа. Тогда стало ясно, что между общими принципами теории и фактами, допускающими непосредственную проверку на опыте, существует глубокое различие: первые суть свободные конструкции человеческого разума, вторые — исходный материал, который разум получает от природы. Правда, переоценивать глубину этого различия все-таки не следует. Если отвлечься от человеческих дел и стремлений, то окажется, что различие между теориями и фактами исчезает, — и те и другие являются некоторыми отражениями или моделями действительности вне человека. Различие заключается в уровне, на котором происходит овеществление модели. Факты, если они полностью «деидеологизированы», определяются воздействием внешнего мира на нервную систему человека, которую мы вынуждены рассматривать (пока) как не допускающую переделки, поэтому мы и относимся к фактам как к первичной реальности. Теории — это модели, овеществленные в языковых объектах, которые целиком в нашей власти, поэтому мы можем отбросить одну теорию и заменить ее другой с такой же легкостью, как заменяем устаревший инструмент на более совершенный.
Возрастание абстрактности (конструктности) общих принципов физических теорий, их отдаление от непосредственных опытных фактов приводит к тому, что в методе проб и ошибок все труднее становится найти пробу, имеющую шансы на успех. Разум начинает просто нуждаться в крыльях для воспарения, о чем и говорит Эйнштейн. С другой стороны, увеличение дистанции от общих принципов до проверяемых следствий делает общие принципы в известных пределах неуязвимыми для опыта, на что также часто указывали классики новейшей физики. Обнаружив расхождение между следствиями теории и экспериментом, исследователь оказывается перед альтернативой: искать причины расхождения в общих принципах теории или же где-то на пути от принципов к конкретным следствиям. Вследствие дороговизны общих принципов и больших затрат, необходимых для перестройки теории в целом, сначала всегда пробуют второй путь. Если удается достаточно изящным способом модифицировать вывод следствий из общих принципов так, что они согласуются с экспериментом, то все успокаиваются и проблема считается решенной. Но иногда модификация выглядит явно, как грубая заплата, а порой заплаты наслаиваются друг на друга и теория начинает трещать по всем швам; тем не менее, ее выводы согласуются с данными опыта и она продолжает сохранять свою предсказательную силу. Тогда возникают вопросы: как следует относиться к общим принципам такой теории? Надо ли стремиться заменить их какими-то другими принципами? При какой степени «залатанности» имеет смысл отбрасывать старую теорию?
13.4. Критерии выбора теорий
Прежде всего, заметим, что ясное осознание научных теорий как языковых моделей действительности значительно снижает остроту конкуренции между научными теориями по сравнению с наивной точкой зрения (родственной платонизму), согласно которой языковые объекты теории лишь выражают какую-то реальность и поэтому каждая теория либо «на самом деле» истинна, если эта реальность «на самом деле» существует, либо «на самом деле» ложна, если эта реальность вымышленная. Эта точка зрения порождена перенесением положения, которое имеет место для языка конкретных фактов, на язык понятий-конструктов. Когда мы сравниваем два конкурирующих утверждения: «в этом стакане — чистый спирт» и «в этом стакане — чистая вода», мы знаем, что эти утверждения допускают опытную проверку и то из них, которое не подтвердилось, теряет всякий модельный смысл, всякую долю истинности; оно на самом деле ложное и только ложное. Совсем иначе обстоит дело с утверждениями, выражающими общие принципы научных теорий. Из них выводится множество проверяемых следствий, и если некоторые из них оказываются ложными, то обычно говорят, что к данной сфере опыта исходные принципы (или способы вывода следствий) неприменимы; обычно удается установить и формальные критерии применимости. Поэтому общие принципы в некотором смысле «всегда истинны», точное понятие истинности и ложности неприменимы к ним, а применимо лишь понятие о большей или меньшей их полезности для описания действительных фактов. Подобно аксиомам математики, общие принципы физики — это абстрактные формы, в которые мы стремимся втиснуть природные явления. Конкурирующие принципы отличаются тем, насколько хорошо они это позволяют сделать.
Но что значит хорошо?
Если теория — это модель действительности, то, очевидно, она тем лучше, чем шире область ее применимости и чем больше предсказаний она может сделать. Это и есть первый критерий для сравнения теорий — критерий общности и предсказательной силы теории.
Далее, поскольку теории — это модели, рассчитанные на использование людьми, они, очевидно, тем лучше, чем проще в употреблении. Это второй критерий — критерий простоты теории.
Эти критерии довольно очевидны. Если рассматривать научные теории как нечто стабильное, не подверженное развитию и улучшению, то, пожалуй, трудно было бы выдвинуть в дополнение к этим критериям какие-либо еще. Но человечество непрерывно развивает и улучшает свои теории и это порождает еще один критерий — динамический, который и оказывается решающим. Об этом критерии хорошо сказано Филиппом Франком в книге «Философия науки», и мы приведем его слова.
Если мы посмотрим, какие теории действительно предпочитались из-за их простоты, то найдем, что решающим основанием для признания той или иной теории было не экономическое и не эстетическое, а скорее то, которое часто называлось динамическим. Это значит, что предпочиталась та теория, которая делала науку более динамичной, т. е. более пригодной для экспансии в область неизвестного. Это можно уяснить с помощью примера, к которому мы часто обращались в этой книге: борьба между коперниковской и птолемеевской системами. В период между Коперником и Ньютоном очень много оснований приводилось в пользу как одной, так и другой системы. В конце концов, однако, Ньютон выдвинул теорию движения, которая блестяще объясняла все движения небесных тел (например, комет), в то время как Коперник, так же как и Птолемей, объяснял только движения в нашей планетной системе... Однако законы Ньютона основывались на обобщении коперниковской теории, и мы вряд ли можем представить себе, как они могли бы быть сформулированы, если бы он исходил из птолемеевской системы. В этом, как и во многих других отношениях, теория Коперника была более «динамичной», т. е. имела большее эвристическое значение. Можно сказать, что теория Коперника была математически более «простой» и более динамичной, чем теория Птолемея4.
Эстетический критерий, или критерий красоты теории, о котором упоминает Франк, трудно защищать как самостоятельный, независимый от других критериев. Однако он приобретает большое значение как интуитивный синтез всех указанных критериев. Теория представляется ученому красивой, если она достаточно обща и проста и он предчувствует, что она окажется динамичной. Конечно, он может при этом и ошибиться.
13.5. Физика микромира
В физике, как и в чистой математике, по мере возрастания абстрактности теорий укоренялось понимание их языкового характера. Решающий толчок этот процесс получил после того, как в начале XX в. физика вторглась в пределы мира атомов и элементарных частиц и были созданы теория относительности и квантовая механика. Особенно большую роль сыграла квантовая механика. Эту теорию вообще невозможно понять, если не напоминать себе постоянно, что она представляет собой лишь языковую модель микромира, а не изображение того, как он выглядел бы «на самом деле», если бы можно было бы увидеть в микроскоп с чудовищным увеличением, и что такого изображения нет и быть не может. Поэтому представление о теории как о языковой модели действительности стало составной частью современной физики, стало необходимым физикам для успешной работы. В результате среди физиков стало меняться и внутреннее отношение к характеру своей деятельности. Если раньше физик-теоретик ощущал себя открывателем чего-то существовавшего до него и независимо от него, подобно мореплавателю, открывающему новые земли, то сейчас он ощущает себя, скорее, создателем чего-то нового, подобно мастеру, искусно владеющему своей профессией и создающему новые здания, машины, инструменты. Это изменение проявилось даже в оборотах речи. О Ньютоне говорят по традиции, что он «открыл» исчисление бесконечно малых и небесную механику; о современном ученом скажут, что он «создал», или «предложил», или «разработал» новую теорию; выражение «открыл» прозвучит архаично. Это, конечно, нисколько не ущемляет достоинства теоретиков, ибо созидание – занятие не менее почетное и вдохновляющее, чем открытие.
Почему же квантовая механика потребовала осознания «языковости» теорий?
Согласно первоначальной атомистической концепции атомы представлялись просто очень маленькими частицами вещества, маленькими тельцами, имеющими, в частности, определенную форму и цвет, от которых зависят физические свойства и цвет больших скоплений атомов. Атомная физика начала XX в. перенесла понятие атома («неделимый») на элементарные частицы — электроны и протоны (к которым вскоре добавился нейтрон), а слово «атом» стало обозначать конструкцию, состоящую из атомного ядра (оно, по первоначальной гипотезе, являлось скоплением протонов и электронов), вокруг которого вращаются электроны, как планеты вокруг Солнца. Такое представление о строении вещества считалось гипотетическим, но чрезвычайно правдоподобным. Сама гипотетичность понималась в том смысле, о котором мы говорили выше: планетарная модель атома должна быть либо истинной, либо ложной. Если она истинна (а в этом почти не было сомнений), то электроны — это «на самом деле» маленькие частички вещества, которые описывают определенные траектории вокруг ядра. Правда, по сравнению с атомами древних элементарные частицы уже стали утрачивать некоторые, казалось бы, совершенно необходимые для частиц вещества свойства. Стало ясно, что понятие цвета совершенно неприменимо к электронам и протонам; не то, чтобы мы не знали, какого они цвета, а просто вопрос этот не имеет смысла, ибо цвет есть результат взаимодействия со светом по крайней мере атома в целом, а точнее — скопления многих атомов. Возникали также сомнения относительно понятий о форме и размерах электронов. Но святая святых представления о материальной частице — наличие у частицы в каждый момент времени определенного положения в пространстве — оставалось несомненным и само собой разумеющимся.
13.6. Соотношение неопределенностей
Квантовая механика разрушила это представление. Она была вынуждена это сделать под напором новых экспериментальных данных. Оказалось, что элементарные частицы ведут себя при определенных условиях не как частицы, а как волны, но при этом они не «размазываются» по большой области пространства, а сохраняют свои малые размеры и свою дискретность, размазывается же лишь вероятность их обнаружения в той или иной точке пространства.
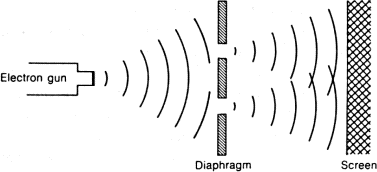
Рис. 13.1. Дифракция электронов
Рассмотрим в качестве иллюстрации рис. 13.1. На нем изображена электронная пушка, посылающая электроны определенного импульса на диафрагму, за которой расположен экран. Диафрагма сделана из непрозрачного для электронов материала, но имеет два отверстия, через которые электроны и попадают на экран. Экран покрыт веществом, которое светится под действием электронов, так что в том месте, куда попал электрон, происходит вспышка. Поток электронов из пушки достаточно редкий, так что каждый электрон проходит через диафрагму и фиксируется на экране независимо от других. Расстояние между отверстиями в диафрагме во много раз больше размеров электронов, полученных любыми оценками, но сравнимо по порядку с величиной h/p, где h — константа Планка, а p — импульс электрона, т. е. произведение его скорости на массу.
Таковы условия эксперимента. Результатом его является распределение вспышек на экране. Первый вывод из анализа результатов эксперимента таков: электроны попадают в различные точки экрана, и предсказать, в какую точку попадет каждый электрон, невозможно, можно только предсказать вероятность попадания в ту или иную точку, т. е. среднюю плотность вспышек после попадания в экран очень большого числа электронов.
Но это еще полбеды. Можно представить себе, что различные электроны пролетают в разных местах отверстий в диафрагме, испытывают различной силы влияния со стороны краев отверстий и поэтому отклоняются по-разному. Настоящие неприятности возникают тогда, когда мы начинаем исследовать среднюю плотность вспышек на экране и сравнивать ее с теми результатами, которые получаются, когда мы закрываем одно из отверстий в диафрагме. Если электрон — это маленькая частица материи, то, попадая в район диафрагмы, он либо поглощается, либо проходит через одно из двух отверстий. Так как отверстия диафрагмы расположены симметрично относительно электронной пушки, в среднем половина электронов проходит через каждое отверстие. Значит, если мы закроем одно из отверстий и пропустим через диафрагму миллион электронов, а затем закроем второе отверстие, но откроем первое и пропустим еще миллион электронов, то мы должны получить такую же среднюю плотность вспышек, как если бы мы пропустили через диафрагму с двумя отверстиями два миллиона электронов. Но оказывается, что это не так! При двух отверстиях распределение получается иным, оно содержит максимумы и минимумы, как при дифракции волн.
Рассчитать среднюю плотность вспышек можно с помощью квантовой механики, связав с электронами так называемую волновую функцию, представляющую собой некое воображаемое поле, интенсивность которого пропорциональна вероятности наблюдаемых событий.
У нас отняло бы слишком много места описание всех попыток согласовать представление об электроне как об «обычной» частице (такие частицы стали называть классическими в отличие от квантовых) с экспериментальными данными об их поведении. Этому вопросу посвящена обширная литература, как специальная, так и популярная. Все такие попытки оказались безуспешными. Выяснились следующие две вещи.
Во-первых, если одновременно измеряется координата квантовой частицы (любой, не обязательно электронов) по некоторой оси х и импульс в этом направлении р, то ошибки измерения, которые мы обозначим через x; и p соответственно, подчиняются соотношению неопределенностей Гейзенберга:
∆x × ∆p ≥ h.
Никакими ухищрениями обойти это соотношение нельзя. Чем точнее мы пытаемся измерить координаты, тем больше оказывается разброс по величине импульса р, и наоборот. Соотношение неопределенностей есть универсальный закон природы, но, так как постоянная Планка h весьма мала, при измерениях с телами макроскопического размера оно роли не играет.
Во-вторых, представление о том, что на самом деле квантовые частицы движутся по каким-то вполне определенным траекториям, т. е. в каждый момент времени на самом деле имеют вполне определенные координату и скорость (а значит, и импульс), которые мы просто не можем точно измерить, наталкивается на непреодолимые логические трудности. Напротив, принципиальный отказ от приписывания квантовой частице реальной траектории и принятие положения, что самое полное описание состояния частиц — это задание ее волновой функции, приводят к логически безупречной, а математически простой и изящной теории, которая блестяще согласуется с экспериментальными фактами; в частности, из нее немедленно вытекает соотношение неопределенностей. Эта теория — квантовая механика. В уяснении физических и логических основ квантовой механики и в ее философском осмыслении главную роль сыграла деятельность крупнейшего ученого-философа нашего времени Нильса Бора (1885–1962).
13.7. Наглядные и знаковые модели
Итак, у электрона не существует траектории. Самое большое, что можно сказать об электроне, — это указать его волновую функцию, квадрат которой даст нам вероятность обнаружения электрона вблизи той или иной точки пространства. В то же время мы говорим, что электрон — материальная частица определенных (и очень маленьких) размеров. Смешение этих двух представлений, которого потребовали опытные факты, оказалось делом очень нелегким, и до сих пор все еще находятся люди, которые отвергают обычную интерпретацию квантовой механики (принятую вслед за школой Бора подавляющим большинством физиков) и желают во что бы то ни стало вернуть квантовым частицам их траекторию. Откуда же такая настойчивость? Ведь экспроприация у электронов цвета прошла совершенно безболезненно, а с логической точки зрения признание неприменимости к электрону понятия траектории принципиально ничем не отличается от признания неприменимости понятия цвета. Различие здесь в том, что при отказе от понятия цвета мы проявляем известную долю лицемерия. Мы говорим, что у электрона нет цвета, а сами представляем его в виде этакого серенького (или блестящего — это дело вкуса) шарика. Отсутствие цвета мы заменяем на произвольный цвет, и это нисколько не мешает использованию нашей модели. По отношению к положению в пространстве этот фокус не проходит. Представление об электроне, который в каждый момент где-то находится, мешает пониманию квантовой механики и приходит в противоречие с опытными данными. Здесь мы вынуждены полностью отказаться от наглядно-геометрического представления о движении частицы. Это и вызывает болезненную реакцию. Мы настолько привыкли соединять пространственно-временную картину с истинной реальностью, с тем, что существует объективно и независимо от нас, что нам очень трудно поверить в объективную реальность, которая не укладывается в эти рамки. И мы снова и снова спрашиваем себя: но ведь если электрон не «размазан» в пространстве, то на самом деле он где-то должен находиться?
Нужна упорная работа мысли, чтобы признать и прочувствовать бессмысленность этого вопроса. Прежде всего, надо отдать себе отчет в том, что все наши знания и теории суть вторичные модели действительности, т. е. модели первичных моделей, каковыми являются данные чувственного опыта. Эти данные несут на себе неизгладимый отпечаток устройства нашей нервной системы, а так как пространственно-временные понятия заложены в самых нижних этажах нервной системы, все наши ощущения и представления, все продукты нашего воображения не могут выйти за рамки пространственно-временных картин. Тем не менее, эти рамки можно до известной степени расширить. Но это надо делать не путем иллюзорного движения «вниз» к объективной действительности, «какая она есть независимо от наших органов чувств», а путем движения «вверх», т. е. построения вторичных знаковых моделей действительности.
Разумеется, знаки теории сохраняют непрерывное пространственно-временное бытие, как и первичные данные опыта. Но в отношениях между теми и другими, т. е. в семантике теории, мы можем позволить себе значительную свободу, если будем руководствоваться логикой новых экспериментальных фактов, а не привычной пространственно-временной интуицией. И мы можем построить такую знаковую систему, которая в своем функционировании никак не связана наглядными представлениями, а подчинена единственно условию адекватного описания действительности. Квантовая механика и является такой системой. Квантовая частица в этой системе — не серенький или блестящий шарик и не геометрическая точка, а некоторое понятие, т. е. функциональный узел системы, который вместе с другими узлами обеспечивает описание и предвидение реальных опытных фактов: вспышек на экране, показаний приборов и т. д.
Возвратимся к вопросу о том, как «на самом деле» движется электрон. Мы видели, что из-за соотношения неопределенностей эксперимент в принципе не может дать на него ответа. Значит, в качестве «внешней части» физической модели действительности этот вопрос бессмыслен. Остается приписать ему чисто теоретический смысл. Но тогда он теряет непосредственную связь с наблюдаемыми явлениями и выражение «на самом деле» становится чистым надувательством! Всегда, когда мы выходим за пределы сферы восприятия и объявляем, что «на самом деле» имеет место то-то и то-то, мы движемся не вниз, а вверх — строим пирамиду языковых объектов и только вследствие обмана зрения нам кажется, что мы углубляемся в область, лежащую ниже чувственного опыта. Выражаясь метафорически, плоскость, отделяющая чувственный опыт от реальности, является абсолютно непроницаемой и, пытаясь разглядеть, что под нею, мы видим лишь перевернутое отражение пирамиды теорий. Это не значит, что истинная реальность непознаваема и наши теории не являются ее моделями; надо помнить только, что все эти модели лежат по сию сторону чувственного опыта и бессмысленно сопоставлять отдельным элементам теорий призрачные «реальности» по ту сторону, как это делал, например, Платон. Представление об электроне как о маленьком шарике, движущемся по траектории, — такая же конструкция, как и сцепление знаков квантовой теории. Оно отличается только тем, что включает пространственно-временную картину, которой мы по привычке приписываем призрачную реальность с помощью бессмысленного в данном случае выражения «на самом деле».
Переход к сознательному построению знаковых моделей действительности, не опирающихся на какие-либо наглядные представления о физических объектах, — большое философское завоевание квантовой механики. Фактически физика стала знаковой моделью со времен Ньютона и именно своей знаковости она была обязана успехами (численные расчеты); однако наглядные представления присутствовали в качестве необходимого элемента. Теперь они стали необязательными, и это расширило класс возможных моделей. Те, кто хотят во что бы то ни стало вернуть наглядность, хотя видят, что теория лучше работает без нее, призывают на деле просто к сужению класса моделей. Вряд ли им это удастся. Их можно сравнить с тем чудаком, который в паровоз запрягал лошадь, ибо хотя он и видел, что повозка движется без лошади, признать такое положение нормальным было выше его сил. Знаковые модели — это паровоз, который вовсе не нуждается в лошади наглядных представлений для каждого из своих понятий.
13.8. Крушение детерминизма
Второй важный результат квантовой механики, имеющий общефилософское значение, — это крушение детерминизма. Детерминизм — это понятие философское. Этим именем называют воззрение, согласно которому все события, происходящие в мире, имеют вполне определенные причины и происходят с необходимостью, т. е. не произойти не могут. Попытки уточнить это определение обнаруживают в нем логические дефекты, которые мешают точной формулировке этого воззрения в виде научного положения без введения каких-либо дополнительных представлений об объективной реальности. В самом деле, что значит «события имеют причины»? Разве можно указать какое-то «конечное» число причин данного события и сказать, что других причин нет? И что значит, что событие «не могло не произойти»? Если только то, что оно произошло, то утверждение обращается в тавтологию.
Однако философский детерминизм может получить более точное истолкование в рамках научной теории, претендующей на универсальное описание реальности. И действительно, он получил такое истолкование в рамках механицизма — научно-философской концепции, возникшей на базе успехов классической механики в приложении к движениям небесных тел. Согласно механистической концепции мир — это трехмерное евклидово пространство, заполненное множеством элементарных частиц, которые движутся по некоторым траекториям. Между частицами действуют силы, зависящие от их расположения друг относительно друга, а движение частиц подчиняется законам механики Ньютона. При таком представлении о мире его точное состояние (т. е. координаты и скорости всех частиц) в некоторый фиксированный момент времени однозначно определяет точное состояние мира в любой другой момент. Знаменитый французский математик и астроном П.Лаплас (1749–1827) выразил это положение следующими словами:
Ум, которому были бы известны для какого-либо данного момента все силы, одушевляющие природу, и относительное положение всех ее составных частей, если бы вдобавок он оказался достаточно обширным, чтобы подчинить эти данные анализу, обнял бы в одной формуле движения величайших тел Вселенной наравне с движениями мельчайших атомов: не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверным, и будущее, так же как и прошедшее, предстало бы перед его взором5.
Эта концепция получила название лапласовского детерминизма. Она является законным и неизбежным следствием механистической концепции мира. Правда, с современной точки зрения формулировка Лапласа нуждается в некотором уточнении, так как мы не можем признать законными понятия всеведущего разума и абсолютной точности измерения. Но ее легко модернизировать, практически не меняя смысла. Мы говорим, что если известны с достаточной точностью координаты и импульсы всех частиц в достаточно большом объеме пространства, то можно рассчитать поведение любой системы в любом заданном интервале времени с любой заданной точностью. Из этой формулировки, как и из первоначальной формулировки Лапласа, можно сделать вывод, что все будущие состояния Вселенной предопределены. Неограниченно повышая точность и охват измерений, мы неограниченно удлиняем сроки предсказаний. Так как никаких принципиальных ограничений на точность и охват измерений, т. е. таких ограничений, которые вытекали бы не из ограниченности человеческих возможностей, а из природы объектов измерения, не существует, мы можем представить себе предельный случай и заявить, что на самом деле все будущее мира определено уже сейчас и абсолютно однозначно. Здесь выражение «на самом деле» приобретает вполне отчетливый смысл; наша интуиция легко признает законность этого «на самом деле» и сопротивляется его дискредитации.
Итак, механистическая концепция мира приводит к представлению о полной детерминированности явлений. Но это противоречит субъективному ощущению свободы выбора, которым мы обладаем. Отсюда два выхода: признать ощущение свободы выбора «иллюзорным» или же признать механистическую концепцию негодной в качестве универсальной картины мира. Сейчас уже трудно сказать, в какой пропорции разделялись на эти две точки зрения мыслящие люди «доквантовой» эпохи. Если подходить к вопросу с современной позиции, то, даже не зная ничего о квантовой механике, надо решительно встать на вторую точку зрения. Мы понимаем сейчас, что механистическая концепция, как и любая иная концепция, является лишь вторичной моделью мира по отношению к первичным данным опыта, поэтому непосредственные данные опыта всегда обладают приоритетом перед любой теорией. Ощущение свободы выбора есть первичный опытный факт, как и другие первичные факты духовного и чувственного опыта. Теория не может отвергнуть этого факта, она может лишь сопоставить с ним какие-то новые факты — процедура, которую мы при выполнении определенных условий называем объяснением факта. Объявить свободу выбора «иллюзорной» так же бессмысленно, как объявить человеку, у которого болит зуб, что его ощущение «иллюзорно». Зуб может быть совершенно здоров, а ощущение боли — быть результатом раздражения определенного участка мозга, однако от этого оно не становится «иллюзорным».
Квантовая механика разрушила детерминизм. Прежде всего, оказалось ложным представление об элементарных частицах как о маленьких тельцах, движущихся по определенным траекториям, а, следовательно, рухнула и вся механистическая картина мира — такая понятная, привычная и, казалось бы, совершенно несомненная. Физики XX в. уже не могут ясно и убедительно, как это умели физики XIX в., рассказать людям, что на самом деле представляет собой мир, в котором они живут. Но детерминизм рухнул не только как часть механистической концепции, но и как часть любой картины мира. В принципе можно было бы представить себе такое полное описание (картину) мира, которое включает лишь реально наблюдаемые явления, но дает однозначные предсказания всех явлений, которые когда-либо будут наблюдаться. Теперь мы знаем, что это невозможно. Мы знаем, что существуют ситуации, в которых принципиально невозможно предсказать, какое из множества мыслимых явлений осуществляется в действительности. Более того, эти ситуации являются согласно квантовой механике не исключением, а общим правилом; строго детерминированные исходы являются как раз исключением из правила. Квантово-механическое описание действительности — существенно вероятностное описание, а однозначные предсказания оно включает лишь как предельный случай.
В качестве примера рассмотрим опыт с дифракцией электронов, изображенный на рис. 13.1. Условия опыта полностью определены, когда заданы все геометрические параметры установки и начальный импульс электронов, испускаемых пушкой. Все электроны, вылетающие из пушки и попадающие на экран, находятся в равных условиях и описываются одной волновой функцией. Между тем они поглощаются (дают вспышки) в разных точках экрана, и заранее предсказать, в какой точке даст электрон вспышку, невозможно; нельзя даже предсказать, отклонится ли он на нашем рисунке вверх или вниз, можно указать только вероятность попадания в различные участки экрана.
Позволительно, однако, задать вопрос: почему мы уверены, что если квантовая механика не может предсказать точку попадания электрона, то и никакая будущая теория не сможет сделать этого?
На этот вопрос мы дадим не один, а целых два ответа; вопрос вполне заслуживает такого внимания.
Первый ответ можно назвать формальным. Он таков. Квантовая механика основана на том принципе, что описание с помощью волновой функции является максимально полным описанием состояний квантовой частицы. Этот принцип в виде вытекающего из него соотношения неопределенностей подтвержден огромным числом экспериментов, интерпретация которых содержит понятия только низкого уровня, непосредственно связанные с наблюдаемыми величинами. Выводы квантовой механики, включающие более сложные математические расчеты, подтверждены еще большим числом экспериментов. И нет решительно никаких указаний на то, что мы должны усомниться в этом принципе. Но он равнозначен невозможности предсказаний точного исхода опыта. Например, чтобы указать точку на экране, куда попадает электрон, надо знать о нем больше, чем дает волновая функция.
Второй ответ мы начнем с того, что попытаемся понять, почему нам никак не хочется согласиться с невозможностью предсказания точки, куда попадет электрон. Столетия развития физики приучили людей к мысли, что движение неодушевленных тел регулируется исключительно внешними по отношению к ним причинами и что путем достаточно тонкого исследования эти причины можно всегда обнаружить, подсмотреть их. Это убеждение было вполне оправдано, пока считалось возможным подсматривать за системой, не влияя на нее, что имело место в опытах над макроскопическими телами. Представьте себе, что на рис. 13.1 рассеиваются не электроны, а пушечные ядра и что вы изучаете их движение. Вы видите, что в одном случае ядро отклоняется вверх, а в другом — вниз, и вы не желаете верить, что это происходит само по себе, а убеждены, что различие в поведении ядер объясняется какой-то реальной причиной. Вы снимаете полет ядра на кинопленку или предпринимаете еще какие-то действия и, в конце концов, находите такие явления A1 и A2, связанные с полетом ядра, что при наличии A1 ядро отклоняется вверх, а при наличии A2 — вниз. И вы говорите, что A1 — причина отклонения ядра вверх, а A2 — причина отклонения вниз. Возможно, что ваша камера окажется несовершенной или вам просто надоест исследование и вы не найдете искомой причины. Но вы все-таки останетесь в убеждении, что на самом деле причина существует, т. е. если бы вы получше посмотрели, то явления A1 и A2 были бы обнаружены.
Как же обстоит дело в опыте с электронами? Вы снова видите, что электрон в одних случаях отклоняется вверх, в других — вниз и в поисках причины пытаетесь проследить за его движением, подсмотреть за ним. Но тут оказывается, что вы не можете подсмотреть за электроном, не влияя на его судьбу самым катастрофическим образом. Чтобы «увидеть» электрон, надо направить на него поток света. Но свет взаимодействует с веществом порциями, квантами, которые подчиняются тому же самому соотношению неопределенностей, что и электроны, и другие частицы. Поэтому с помощью света, а также с помощью любых других средств исследования выйти за пределы соотношения неопределенностей не удается. Пытаясь уточнить координату электронов с помощью фотонов, мы либо сообщаем ему такой большой и неопределенный импульс, который портит весь эксперимент, либо измеряем координату так грубо, что не узнаем о ней ничего нового. Таким образом, явлений A1 и A2, т. е. причин, по которым электрон в одних случаях отклоняется вверх, а в других случаях вниз, не существует в действительности. А утверждение, что «на самом деле» какая-то причина есть, теряет всякий научный смысл.
Итак, существуют явления, у которых причин нет, точнее, существует ряд возможностей, из которых одна осуществляется без всякой причины. Это не значит, что принцип причинности вообще следует отбросить: в том же опыте если отключить электронную пушку, то вспышки на экране вообще исчезнут и причиной их исчезновения будет отключение пушки. Но это значит, что его надо существенно ограничить по сравнению с тем, как он понимался в классической механике и как он до сих пор понимается обыденным сознанием. У некоторых явлений причин нет, их надо принимать просто как нечто данное. Таков уж мир, в котором мы живем.
Второй ответ на вопрос о причинах нашей уверенности в существовании непредсказуемых явлений состоит в том, что с помощью соотношения неопределенностей мы уясняем себе не только массу новых фактов, но и природу того перелома в отношении причинности и предсказуемости, который происходит при вторжении в микромир. Мы видим, что вера в абсолютную причинность проистекала из молчаливого предположения о наличии бесконечно тонких средств исследования, «подсматривания» за объектом. Но, дойдя до элементарных частиц, физики обнаружили, что существует минимальный квант действия, измеряемый постоянной Планка, и это создает порочный круг при попытках детализировать сверх меры описание одной частицы с помощью другой. И абсолютная причинность рухнула, а вместе с ней и детерминизм. С общефилософской точки зрения представляется вполне естественным, что если не существует бесконечной делимости материи, то не существует и бесконечной детальности описания, так что крушение детерминизма представляется более естественным, чем если бы он сохранился.
13.9. «Сумасшедшие» теории и метанаука
6Успехи квантовой механики, о которых мы говорили выше, относятся главным образом к описанию нерелятивистских частиц, т. е. частиц, движущихся со скоростями, много меньшими, чем скорость света, так что эффектами, связанными с теорией относительности (релятивистскими эффектами), можно пренебречь. Именно нерелятивистскую квантовую механику мы имели в виду, когда говорили о ее полноте и логической стройности. Нерелятивистская квантовая механика достаточна для описания явлений атомного уровня, но физика элементарных частиц высоких энергий требует создания теории, совмещающей идеи квантовой механики и теории относительности. До сих пор на этом пути достигнуты лишь частичные успехи; единой и последовательной теории элементарных частиц, объясняющей огромный материал, накопленный экспериментаторами, не существует. Попытки построить новую теорию путем непринципиальных исправлений старой теории не приводят к значительным результатам. Создание удовлетворительной теории элементарных частиц упирается в чрезвычайную своеобразность этой области явлений, происходящих как бы в совсем ином мире и требующих для своего описания совершенно необычных понятий, в самой основе расходящихся с привычной нам понятной схемой.
В конце 50-х годов Гейзенберг предложил новую теорию элементарных частиц, ознакомившись с которой Бор сказал, что она вряд ли окажется верной, потому что она «недостаточно сумасшедшая». Теория действительно не получила признания, а меткое замечание Бора стало известно всем физикам и даже попало в популярную литературу. Словечко «сумасшедшая» естественным образом ассоциировалось с эпитетом «странный», применяемым к миру элементарных частиц. Но означает ли «сумасшедшая» только «странная», «необычная»? Пожалуй, если бы Бор сказал «недостаточно необычная», афоризма не получилось бы. Слово «сумасшедшая» вносит оттенок «шальная», «взявшаяся неизвестно откуда» и блестяще характеризует нынешнюю ситуацию в теории элементарных частиц, когда всеми признается необходимость глубокой перестройки теории, но, как к ней приступить, неизвестно.
Возникает вопрос: неужели «странность» мира элементарных частиц, неприменимость к нему нашей интуиции, выработанной в макромире, обрекает нас отныне и навечно на блуждание в темноте?
Вдумаемся в природу возникших трудностей. Принцип создания формализованных языковых моделей действительности не пострадал при переходе к изучению микромира. Но если колесики этих моделей — физические понятия — брались в своей основе из нашего повседневного макроскопического опыта и лишь уточнялись путем формализации, то для нового «странного» мира нужны новые «странные» понятия, которые взять неоткуда и которые придется, следовательно, изготовлять заново, да еще и соединить их должным образом в целостную схему. На первом этапе исследования микромира одно из таких колесиков — волновая функция нерелятивистской квантовой механики — было изготовлено сравнительно легко, опираясь на уже существовавший математический аппарат, служивший для описания макроскопических явлений (механика материальной точки, механика сплошных сред, теория матриц). Физикам просто повезло: они нашли прообразы необходимого им колесика в двух (совершенно различных) колесиках макроскопической физики и составили из них «кентавра» — квантовое понятие волны-частицы.
Однако нельзя все время рассчитывать на везение. Чем глубже мы проникаем в микромир, тем сильнее отличаются необходимые понятия-конструкты от привычных понятий макроскопического опыта и тем меньше вероятность соорудить их с ходу, без всяких инструментов, без всякой теории. Следовательно, мы должны подвергнуть научному анализу саму задачу построения научных понятий и теорий, т. е. совершить очередной метасистемный переход. Чтобы квалифицированно построить определенную физическую теорию, нам нужна общая теория построения физических теорий (метатеория), в свете которой прояснится путь решения нашей конкретной задачи. Сравнение наглядных моделей старой физики с лошадью, а абстрактных знаковых моделей с паровозом, можно развить следующим образом. Лошади предоставлены в наше распоряжение природой. Они растут и размножаются сами по себе, и чтобы использовать их, не нужно знать их внутреннее устройство. Но паровоз мы должны построить сами. Для этого мы должны понять принципы его устройства и физические законы, лежащие в их основе, а также иметь какие-то инструменты для работы. Пытаясь построить теорию «странного» мира, не имея метатеории физических теорий, мы уподобляемся человеку, который задумал построить паровоз голыми руками или построить самолет, не имея представления о законах аэродинамики.
Итак, созрел очередной метасистемный переход. Физика требует... хочется сказать «метафизики», но, к счастью для нашей терминологии, нужная нам метатеория является таковой по отношению к любой естественнонаучной теории, имеющей высокую степень формализации, поэтому ее правильнее назвать метанаукой. Этот термин обладает тем недостатком, что создает впечатление, будто метанаука есть нечто, принципиально лежащее вне науки, в то время как в действительности новый уровень иерархии, создаваемый этим метасистемным переходом, надо, конечно, включить и в общее тело науки, расширяя тем самым это тело. Ситуация здесь такая же, как с термином метаматематика; ведь метаматематика — это тоже часть математики. Но поскольку термин «метаматематика» был все-таки принят, можно считать приемлемым и термин «метанаука». Впрочем, поскольку важнейшая часть метанаучного исследования — исследование понятий теории, можно предложить также термин концептология.
Основную задачу метанауки можно сформулировать так. Дана некая совокупность или некий генератор фактов. Каким образом построить теорию, эффективно описывающую эти факты и делающую правильные предсказания?
Если мы хотим, чтобы метанаука вышла за рамки общих рассуждений, то надо строить ее как полноценную математическую теорию, а для этого ее объект — естественнонаучная теория — должен предстать в формализованном (пускай упрощенном — такова цена формализации) виде, подвластном математике. Представленная в таком виде научная теория есть формализованная языковая модель, механизм которой составляет иерархическая система понятий — точка зрения, которую мы приводили на протяжении всей книги. С этой точки зрения создание математической метанауки представляется очередным и естественным метасистемным переходом, совершая который мы делаем предметом изучения формализованные языки в целом, причем не только в отношении их синтаксиса, но также — и главным образом — с точки зрения семантики, с точки зрения их приложения к описанию действительности. К этому шагу нас подводит весь путь развития физико-математической науки.
Впрочем, до сих пор мы в своих рассуждениях исходили из потребностей физики. А как обстоит дело с точки зрения чистой математики?
Если физики-теоретики знают, что им нужно, но сделать могут немного, то «чистых» математиков можно, скорее, упрекнуть в том, что они сделать могут много, но не знают, что им нужно. Нет спору, многие чисто математические работы нужны для придания связности и стройности всему зданию математики, и смешно было бы требовать от каждой работы немедленных «практических» приложений. Но все-таки математика создается для познания действительности, а не с эстетическими или спортивными целями, подобно шахматам, и даже самые высокие ее этажи нужны, в конечном счете, лишь постольку, поскольку они способствуют достижению этой цели.
Вероятно, рост здания математики ввысь нужен всегда и представляет собой безусловную ценность. Но математика разрастается также и вширь, и все труднее становится определить, что не нужно, а что нужно, и если нужно, то в какой степени. Математическая техника развита сейчас настолько, что сконструировать в рамках аксиоматического метода несколько новых математических объектов и исследовать их свойства стало чуть ли не таким же обыкновенным, хотя и не всегда легким делом, как для древнеегипетских писцов произвести вычисления над дробями. Но, кто знает, понадобятся ли эти объекты? Возникает потребность в теории приложения математики, а это по существу и есть метанаука. Следовательно, развитие метанауки — это направляющая и организующая задача по отношению к более конкретным математическим задачам.
До создания эффективной метанауки пока еще далеко. Сейчас трудно представить даже ее общие контуры. Чтобы они прояснились, необходимо выполнить еще много подготовительных работ. Физики должны овладеть «бурбакизмом», прочувствовать игру математических структур, которая приводит к возникновению богатых аксиоматических теорий, пригодных для детального описания реальности. Они должны вместе с математиками научиться раскладывать знаковые модели на отдельные кирпичики, чтобы складывать из них нужные им блоки. И, конечно, необходимо развитие техники проведения формальных выкладок над произвольными символьными выражениями (а не только числами) с помощью электронных вычислительных машин. Подобно тому, как переход от арифметики к алгебре происходит только после полного освоения техники арифметических вычислений, так и переход к теории создания произвольных символьных систем требует высокой техники действий над символьными выражениями, требует практического снятия проблемы выполнения громоздких формальных выкладок. Внесут ли новые методы вклад в разрешение тех конкретных трудностей, которые стоят сейчас перед теорией элементарных частиц, или же они будут раньше разрешены ручными, «дедовскими» методами, неизвестно, да это, в конце концов, и не важно, ибо, несомненно, появятся новые трудности. Так или иначе, вопрос о создании метанауки стоит на повестке дня. Рано или поздно он должен быть решен, и тогда люди получат новое оружие для покорения самых странных фантастических миров.
1 Bacon F. Novum Organum, Great books of the western world. Encyclopedia Britannica, 1955. Aphorism 95. P. 126.
2 Bacon F. Ор. cit. Aphorism 117. Р. 131.
3 Cм. сборник: Эйнштейн А. Физика и реальность. М.: Наука, 1965. Следующие ниже цитаты взяты также из этого сборника.
4 Frank P. Philosophy of science. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice-Hall, 1957.
5 Лаплас П. Опыт философии теории вероятностей. М., 1908. С. 9.
6 Этот раздел написан по мотивам статьи автора под таким же названием, опубликованной в журнале «Вопросы философии», 1968. N5.